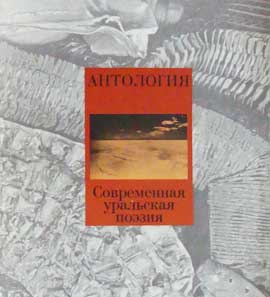АНТОН КОЛОБЯНИН
Колобянин Антон Валерьевич родился в 1971 в Перми, публиковался в самиздате и журнале «Урал», проживает в Перми.
* * * (1989)
О девочке глупой ни слова...
... Как лошадь иди далеко.
Вот ласточки даль эту снова
раскосым затянут трико.
Валяется листьев медуза,
с гаргоной в иссохших мозгах...
... Та девочка глупая - муза,
повешена прямо в носках.
СЛОНЫ (1989)
Выращивая поступь, как бамбук,
слоны идут, переставляя тень.
Её подвижный алчущий паук,
обросший паутиною, как пень,
пытается догнать себя в себе.
И в суть вещей он тщится забежать.
Но вещи - это тени лишь извне.
Им суждено всегда опережать.
Слоны идут, как злые животы,
как ягодицы добрые - идут.
Попоны - это эполеты... Ты
их перспективу срезал. Как редут,
тень вырыла себя. Её окоп
проложен вне тебя. Уже видна
процессия слонов. И тот час - хлоп!
И тень твоя раздавлена до дна...
Слоны идут, как грипп по февралю.
Как ледоход. Как кость под мышцей рваной.
Как зубы в сокращающемся рту.
Как белое полотнище экрана...
* * * (1991)
Я живу с алкоголем в крови.
Ты попробуй меня оторви
от туннеля початой бутылки.
Я всю жизнь ощущал переход
в подпространство и наоборот.
В 27 я наметил уход,
если раньше не будет развилки.
У меня есть ручная тоска
и любовь тяжелей волоска.
Ангел мой, посмотри, как узка
эта щель в зазеркалье.
Вряд ли я проложу борону
по изрытому рыбами дну.
Тут лицо я к тебе оберну
не своё, а шакалье.
Нет, пугать я тебя не берусь.
Может, Богом к тебе обернусь
или боком. И вряд ли запнусь
над ужасной строкою.
Я умру с алкоголем в крови.
Ангел мой, ты меня оторви
с мясом, с кровью от этой любви,
о которой поют соловьи
перед страшной зимою.
* * * (1992)
От гипсовой Вселенной
я лишнее откалывал.
Я плакал просветленно,
а думали - прикалывал.
Я пил до ватерлинии,
но трезвые глаза
ещё при младшем Плинии
смотрели в небеса.
Теперь ответь рассеянно,
Земля, планета страшная,
зачем в тебя засеяна
победа рукопашная?
Кто поцелует сладкую
улыбку полумесяца?
Под чёрною палаткою
Вселенной - сердце бесится.
- Кому прожить ещё семь лет
на медленном огне?
Ну кто готов? Кто здесь поэт?
- Спасибо, это - мне.
ПОЛНЫЙ PIZDEC (1989)
На груди твои возложил
корявые письма. Сказал:
«Я так синусоидно жил,
что алгебру в морге видал».
Теперь я закручен в астрал,
как лампочка чьей-то рукой.
А всё, что когда-то писал,
оставил пока за собой.
Ты думаешь, всё это бред.
Ведь должен быть где-то конец.
Так значит - меня уже нет?
Я знаю, ты скажешь - pizdec!
На груди твои возложил
костлявые руки. Сказал:
«Я так синусоидно жил,
что бог мне поэзию дал».
Теперь я закручен туда,
откуда никто никогда...
Я думаю, всё это бред.
Ведь должен быть где-то конец.
Так значит меня уже нет?
PIZDEC...
НОСТАЛЬГИЯ ПО БУДУЩЕЙ (1991)
Когда мы друг друга хотели,
мы счастливо пили и ели
картофель, посыпанный луком,
и губы встречались со стуком
сердец, заходившихся в гонке
на чистой лыжне самогонки.
Мы сразу табанили к стенке
столы, табуретки и, пенки
сдувая с иглы, водружали
её на винила скрижали,
волчком заводились на бите,
и кухня неслась по орбите.
Вот так, понемногу хотели
в здоровом и утреннем теле;
нас так прижимало друг к другу,
что юность ходила по кругу,
и окна горели ночами
облитыми тюлем очами.
Вот так мы хотели и жили.
И в жизнь ничего не вложили.
Но брали у ней, как проценты
и секс, и ночные концерты
под жёсткий и верный залог,
который зовут «эпилог».
ВОСЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ (1991)
Сидели в январе и пили крепкий чай.
Снег за окном сидел на клумбах по-турецки.
Один из них, поэт, заметил невзначай:
«Ах, восемь лет назад шёл снег антисоветский».
Другой, он был дантист, отставил кипяток
и пробурчал: «О да, всё было в чистом виде».
А третий, крановщик, поддал как только мог:
«Уж скоро восемь лет, как с нами нет Кальпиди».
И вот таким путём они хлебали чай.
Сопливый разговор покашливал с мороза.
И первый от окна заметил невзначай:
«А рельсы всё стучат под брюхом паровоза».
* * * (1992)
Любимая раздвигает
влажные ноги. Тает
снег на полях. Светает.
Солнце целует в жопу.
Милая помогает
нежно войти. Летает
ветер дыханья. Тает
снег, испаряясь в шёпот.
Алую плоть пронзают
копья, ножи, трезубцы.
Губы, как плоскогубцы
щиплют соски, терзают.
Любящих вырезают
ножницы из системы
календаря. В пыль стены
тени перетирают.
Милая, безоружен
бедный поэт. Натружен
взгляд его. Кто-то нужен
для тренировки взгляда.
Я навожу на резкость
блядскую вульву. Резвость?
Ну, извини за резкость.
Мы ведь не дети зла, да?
Тают снега. Жестоки
светлых побед истоки.
Нас караулят токи
инвалютивной масти.
Я не сгущаю страсти.
Золотом крыть дороги
не подлежит. Украсьте
золотом лучше ноги.
Страшный распад влюблённых,
тучами стрел калёных
до смерти удивлённых.
Милая, ты реальна?!..
Я нахожу, что Тает
снег. За окном светает.
Милая отлетает
мёртвая капитально.
* * * (1992)
Никто не хотел умирать.
Скрипела железом кровать.
И тень по стене ползла.
Она не желает зла.
Я мёртвые тексты пишу.
Казалось, уже не дышу.
С метафоры капал гной,
а умер поэт другой.
Никто не в ответе за
ближнего. И слеза
рубит твои глаза,
и крошится бирюза.
На свете немало тем.
Но хочется сбавить темп,
войти в золотой лес
в разгаре октябрьских месс.
Хочется быть простым
смертным, и холостым
патроном войти в ствол,
и чтоб не на все сто.
Время пилить пилой,
носить стихи под полой.
Юность моя прошла.
Вот и кончился шлак.
* * * (1992)
Я поклонюсь костям святых и мнимым,
и праху мною бешено любимых:
чем ниже мой поклон - тем восхищённей дух.
(Любовь не выбирает одиноких,
ни гор высоких, ни морей глубоких,
и если бьёт, то бьёт дуплетом - двух.
Но я об этом прочитал в романах.
Там как ни поверни - на рваных ранах
построена любая болтовня
о беспощадной страсти-как-напасти
и о ветрах жестоких, рвущих снасти,
таких, что упаси, господь, меня.)
Я поклонюсь (но мой поклон не вечен)
тому, кто в одиночку изувечен,
над кем вознёсся одинокий крест.
Я кланялся себе, но это - в прошлом.
Теперь в любом стихе, тем паче - в пошлом,
я сам себя сажаю под арест.
Пора за всё платить героям драмы.
За жизнь, за родовые муки мамы,
за смерть Христа, за всё пора платить.
За казнь двадцатилетних комиссаров
и за лягушек (мой должок, Базаров) -
платить, а не в бумагу колотить.
Святые умирают в одиночку.
Но смерть длинна, и рано ставить точку.
В её клубок всю правду не смотать.
Горам высоким - дорасти до Бога.
Морям глубоким - время эпилога -
всю грязь, вплоть до Пришествия, сметать
волною синей... Вечность так полога,
что стыдно нам следы не заметать.
ПИРАМИДА (1993)
На небе - серп луны бледней лица.
Придумать бы созвездие Жнеца,
чтоб серп озолотить богатой жатвой.
И, рифмою неслабой стих держа свой,
взять музу под венец не без винца.
Наркотики нас учат быстро жить.
(В стихах распад. Им нужно саван шить.)
Я в чёрный космос тыкаю иголкой.
Но что там левитирует над полкой?
А-а, это Библия. Мне сложно с ней дружить.
Перо скользит привычной бороздою.
Звезда pizdit, что говорит с звездою.
И Пушкин врёт, и Лермонтов pizdit.
Лишь замыкая, истина «звездит».
И у меня есть песня под рукой.
Там хриплый крик работает киркой.
И он твердит, что верит в чистоту
снегов и слов. И эту простоту,
как ни бесись, я усложнить не в силах.
Я с текстом на ножах и сам с собой на вилах.
Мой стих, как пирамида фараона,
растёт из точки - в ширь, к подножью трона.
Вначале - как звезда, но, расширяясь книзу,
он расщепляет свет по спектру. И капризу
его я подыграть готов из чистой веры,
что все мои стихи растаят, как химеры.
БЕЗ ОТВЕТА (1993)
Эй Дима, ответь мне, прав ли я был,
завидуя жизни кипучей,
где гонг телефона звонками бурлил
(подобием тютчевской тучи),
где ночью кирял развесёлый народ,
а днём выходил на орбиту
в попытке писать - лишь бы наоборот,
держа авторучку, как биту.
Эй, Дима, ответь мне... Плевать на ответ!
Ответь колыханием шторы,
морганием свечки (я выключил свет).
Ответь аппетиту обжоры,
который жрёт всё, что лежит на виду:
бумагу, вино, сигареты,
сомнения, веру и - дальше иду -
жрет смерть твою, Дима... И где ты
сейчас не находишься, ты - имярек,
и зов этот не к человеку...
а к сладкой истоме на крылышках век,
зовущей проспать этот день, этот век
в угоду уснувшему веку…
ТРАКТАТ О ФОТОГРАФИИ (1991)
Фотограф время покалечил
квадратным фотоаппаратом.
Он вовсе не увековечил,
а сделал смертным каждый атом.
* * * (1993)
Я помню тёмный класс,
мел на доске и парты.
И пустоту фойе
в разгар каникул летних.
И оробевших нас...
Мы в миг раскрыли карты,
и началась фее-
рия десятилетних.
Маячил впереди
наивный миф ребёнка
о страсти. На виски
ты задирала майку.
Сгорая на груди,
как звёзды октябрёнка,
незрелые соски
губам дарили пайку.
Я намертво клеил
ладони к голой коже.
Мы тёрлись горячо,
изображая взрослых.
Нас шёпот закалил
и первый грех умножил.
Пусть светится плечо
от кос золотоносных.
Меня перебирал
твой всхлип: а вдруг найдут нас?
Но трусики сползли
к рыдающим коленям.
Кто мел с доски стирал?
Кто те, кто в даль ведут нас,
стоящие во зле?
Во зле за нас, коль лень нам.
Был короток тот сон.
Мы вышли чёрным ходом.
Ты - к куклам, твой Орфей -
к своим несмелым виршам.
Влюблён и невесом
плыл ангел над приходом
двух маленьких церквей,
плоть к плоти прилепившим.
НОЧЬЮ У РЕКИ (1993)
Крайняя плоть заката
плоским подобьем ската
вытекла в водоём.
Сумерки, словно воры,
реки украли, горы,
нас уличив вдвоём.
Пот или кровь - неважно.
Женщина любит влажно,
терпко и горячо.
Ночь, словно маслом, мажет -
страхом, любовью. Машет
крыльями за плечом.
ИЗ КАБАКА (1994)
Промямлив «прощай» кабаку,
хмельной пропускаю начало...
У Камы на правом боку
бренчит портупея причала.
Портовые девки горят
желанием, как зажигалки.
Их пипки со мной говорят
без телепатем. Даже галки,
узнав о желаньи тех pizd,
играют с котятами в вист.
Иду по ленивой кривой,
опасно минуя блатхаты.
В одной из них Лёнька-кривой
с напарником снова богаты.
Я б тоже не прочь гробануть
какой-нибудь банк заграничный.
А здесь мне в дерьме утонуть
мешает не ворох страничный
и даже не шорох чернил -
закон бы я здесь очернил!
Хмельная кабацкая блажь
уже покидает сознанье.
В кассетнике варит СашБаш
кровавую кашу. Зло, Сань, я
давно разглядел, так что - на!
совет - в пику божьему дару:
ты снова шагни из окна,
обняв пустоту, как гитару...
Стихи - как лицо на сукне,
и тень исчезает в окне.
Я верю, что каждый кабак
является церковью божьей.
И вам не навешать собак,
и я не продамся дороже.
Я тот, кто не жалок в тоске,
и тот, кто не страшен в веселье.
Мой дом - это дом на песке.
Лишь смерть мне несёт новоселье.
Я плавно лечу в облака
на пьяных крылах кабака.
СВЕТ (1993-95)
Поднявшись без перил,
узрел на небеси,
как мир господь лепил
вокруг своей оси.
Я тоже богом был,
пытаясь быть им впредь.
Но выпил и забыл,
зачем под нами твердь.
И я лепил стихи
на сломанную ось.
В поэзии, хи-хи,
так, видно, повелось.
Я вырвал свой язык
и не нашёл замены.
Я стал пророк лозы,
чей дольний рост - измены.
Что это было? Где?
И кем это воспето?
Мы слушали Б.Г.
и щурились от света.
Я в гости приходил,
мы целовались взглядом.
Тогда я так же пил,
но Свет всегда был рядом...
Да, после смерти стих
покинет оболочку.
Покинет запятых
скопление и точку.
И он возьмёт тебя
на мощные поруки...
Мать умерла, любя.
А ты зевал от скуки.
Сижу и чту послов
из прошлого, из сценки -
где светится Рублёв
в рублёном пятистенке.
Сижу, чего-то жду,
но медленно меняюсь.
Я справил всю нужду,
а по привычке маюсь.
И я леплю свой дар
на сломанную ось.
Клубами валит пар,
но пламя занялось.
Метнув земли на гроб,
я отошёл в кювет.
Тьма есть калейдоскоп,
а свет есть только свет.
СМЕРТЬ ПОЭТА (1995)
Погиб поэт. Что следует за сим?
Молва преобразит лицо поэта.
Огонь его (отныне - не гасим)
сожрёт иные версии. И эта
останется единственной - в миру:
погиб поэт - невольник на две трети.
В один и тот же профиль, как в дыру
заглядываем мы и наши дети.
Посмертье достигается судьбой,
а не мгновеньем смерти, не мгновеньем.
Судьба растёт, как крылья за спиной
у всякой твари с каждым дуновеньем
не ветра, но восторга. Чудный вдох
нам крылья, как две чаши наполняет.
И этот миг (влюблённый в нас, как Бог)
судьбу на смерть таинственно меняет.
Погиб поэт. Что следует за тем?
Есть много версий плачущего люда.
Трагедия отбрасывает тень
и тенью занавешивает чудо.
Молва о даре засоряет путь.
Сверх-речь не создаёт сверх-человека.
Смерть силиться глаза ему заткнуть,
но ложь с трудом приподнимает веко.
Посмертье достигается судьбой.
Судьба же достигается посмертьем.
Вот два пути, придуманных тобой.
Помедлив, остановимся на третьем.